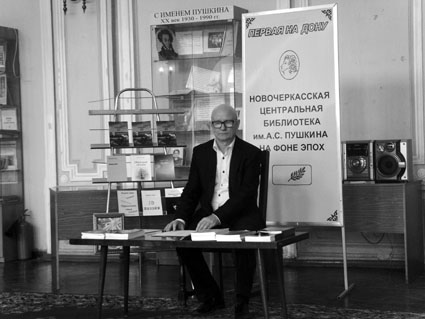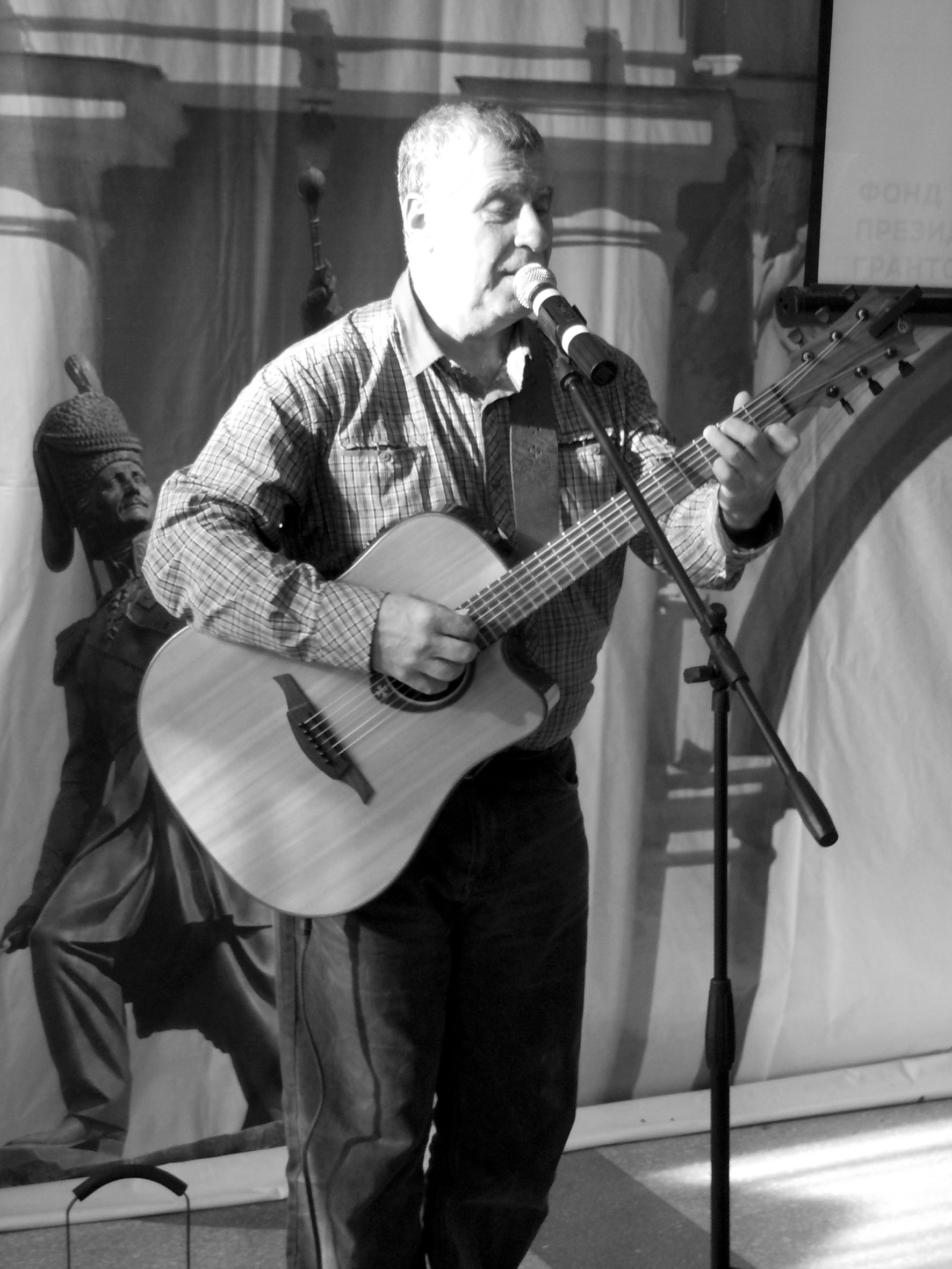К 265-летию атамана М.И. Платова
(Окончание. Начало в «ЧЛ» № 32-36)
IX.
Поход начался в половине января 1801 года; в это время казаки выступили «о дву–конь» из Черкаска до Оренбурга.
Если считать, что в феврале они выступили в настоящий степной поход, то прошел уже целый месяц, как они все углублялись и углублялись в среднеазиатские степи, приближаясь к Хиве и Бухаре.
Приходило Матвею Ивановичу Платову в голову, что государь, веря наветам его недоброжелателей, захотел наказать его еще трудной прогулкой по степям, но потом воротит же назад; однако это не сбывалось, вестник возвращения не появлялся на горизонте безграничных снежных степей.
Гонцы, которых он по приказу императора посылал с пути через день в Оренбург, а через неделю к самому государю в Петербург, еще ни один к нему не возвращался ни с какими дальнейшими инструкциями. Была у него в руках карта, копия той, что он видел у государя на столе, но эта карта ничего ему не говорила, потому что и картография–то Средней Азии была в то время крайне мало исследована и еще хуже нанесена на план.
А ужасы сверхъестественного похода все увеличивались по мере углубления в степи: начали появляться разведочные партии киргизов, чтобы напасть на русский отряд, движение которого в степь вызывало подозрения азиатов. Это держало казаков начеку и увеличивало неудобства зимнего похода по необитаемой степи.
Смертность в людях и животных увеличивалась; между казаками начался ропот, сначала глухой, когда казаки далеко от глаз начальства жаловались друг другу на злую судьбу, постигшую их, а потом эти жалобы стали предъявляться и начальству, сначала низшему – хорунжим и сотникам.

Памятник М.И. Платову (г. Новочеркасск)
Беззаветно преданный родине и престолу казак не хотел бунтовать и сопротивляться распоряжениям, исходящим свыше, тем более, когда ведет его такой любимый и испытанный в походах начальник, как «батько» Платов, но, все–таки, ужасная действительность и видимая недостижимость конечной цели убеждала его, что этот поход будет для всех верной гибелью без малейшей пользы для родины. Провиант и фураж, не смотря на донельзя уменьшенные дачи, истощался, и полуторамесячного запаса его не хватало и на половину предположенного пути.
Другое дело, если бы казаки шли местами населенными: там казак и конь его никогда не останутся голодны, но в покрытой снегом безграничной степи вся изворотливость казака была ему бесполезна.
Ропот поднялся выше: полковники и старшины, видя конечную гибель людей и лошадей, которых уже начали бить на прокормление себя, стали заговаривать с походным атаманом весьма нерадостно о последствиях похода.
– И сам я, братики, думаю об этом, – отвечал им Платов: – и вот как думаю, аж голова чуть не треснет, да что ж поделаешь, коли на то есть высочайшая воля? Пойдемте, братики, вперед, авось дойдем куда надо…
Но дойти, в конце концов, до Индии не представлялось никакой возможности; дальнейшее движение вперед было явным путем к конечной гибели всего отряда до последнего человека. Это сознавали все, и атаман Платов лучше всех.
Путь следования отряда отмечался палыми по сторонам верблюдами и лошадьми; иеромонах чуть не каждый день отпевал умерших казаков, а товарищи вырубали мерзлую землю и со слезами хоронили их на чужой стороне, в незнаемой азиатчине.
Наконец, терпение у всех лопнуло.
– Батько! – взмолилося войско, – куда ты ведешь нас? На верную смерть? Ведь всем тут кости положить, а не дойти!
– И я, детушки, с вами костьми лягу здесь! Видно, такова судьба наша!
– Веди нас назад! Хоть половина из нас останется да увидит свои станицы.
– Не увидим, детушки, мы наших станиц! Воротимся мы вопреки царскому указу, самовольно, откажемся от военной службы, а нас похватают всех да по тюрьмам да острогам рассажают, а меня с полковниками так и просто расстреляют, как изменников.
– А и вперед идти – всем изгибнуть!
– А и назад пойти – смерть и казнь принять!…

Бюст М.И. Платова (станица Старочеркасская)
X.
Наступил уже март месяц 1801 года; холода стояли жестокие; бедствия похода увеличивались.
В войске общее недовольство стало проявляться открыто; казаки отказывались идти вперед, и многих усилий стоило атаману Платову сдерживать их от самовольного возвращения назад.
Скоро и его авторитет стал делаться слабым: «батько–Платов», прежде столь любимый, начал казаться им врагом, ведущим их на верную гибель без всякой пользы, и уже начали поговаривать об измене и, если не о возвращении назад, то о том, чтобы передаться совсем туркам, как сделали это казаки–некрасовцы, до сих пор мирно живущие в Турции, убежав от религиозных притеснений.
Скверно чувствовал себя Матвей Иванович Платов, видя, в какое безвыходное положение попал он и любимые его детушки–донцы.
Он колебался между самыми мучительными мыслями, и его седая и облысевшая в крепости голова подолгу была склонена на грудь в тяжких думах.
Наконец невыносимое, напряженное состояние войска разрешилось открытым сопротивлением; к казакам пристали и все начальники, полковники, есаулы и сотники.
– Не пойдем, батько, вперед! Что хочешь с нами делай, не пойдем! Не сласть нам погибать безвестно в азиатчине! – кричало все войско.
– Какой же я вам батько, коли вы меня не хотите слушаться? Считайте меня «аманатом» вашим, а не атаманом походным, коли мне перестали повиноваться!
Тут выступил старый седой есаул, побывавший с Платовым во всех походах, и начал речь.
– Не считаем мы тебя, батько, аманатом, и ты ведаешь нашу великую «охоту» и к родине нашей, и к престолу, и к тебе, батько. Однако, зачем же нам принимать напрасный «проминаш» и «ходатайствовать» без толку по степи? В войске подымается большая «публика», каждый казак считает этот поход за «победу» всему войску, потому что приходится всем «решиться»! Ты посмотри, батько, сколько народу решилось, а из тех, что остались, половина «вредных» ходатайствует. Всю «домашность» и «экипаж» растеряли, не глядя, что казаки издавна народ «развратный» и ни к какой «марали» не причислены. Не прими, батько, наши слова за «коммерцию», никакого «качества» мы не имеем против Бога, царя и тебя, и народ мы не совсем «натуральный», однако между народом пошла большая «республика», и вот тебе наша «разделюция»: не идем на эту проклятую Индию, а повернем в сторону и передадимся турскому султану, коли на родине нас тюрьма, острог да расстрел ожидают.
– Сам я вижу, милые мои детушки, «источные» казаки, что попали мы с этим походом, как «сазаны» да «чекомасы» в «илым», однако не можете вы и меня «диктовать», как «аманата»: я в равной доле с вами нахожусь, потому что в одной с вами «цербе» кипеть мне приходится… Жалко мне вас, да и себя жалко, детушки. Думал я, думал, аж голова чуть не треснула… Дайте мне еще подумать до завтра, а завтра поутру отслужим Богу молебствие, и я скажу вам свое решение, какое надумаю… Коли не понравится оно вам, тогда делайте со мною, что хотите: не батько я больше вам и не атаман буду… Так–то, детушки и братики, перестоим здесь до завтрева, а завтра и «разделюцию» свою сделаем…
Сказал это твердым и ясным голосом Матвей Иванович Платов, поклонился войску казачьему и ушел в свою юлламу–палатку.
Бурным кипящим морем зашумело войско донское, услышав такие слова атамана, и, обсуждая его решение, разошлось по юлламейкам.
– Долго ждали и терпели, осталось ждать только ночь одну, переждем, – решили казаки: – а там наша воля, сделаем, что хотим…
Тревожно заснул казачий стан в эту ночь; уложенные на подстилку последние измученные верблюды жалобно стонали…

Бюст М.И. Платова (г. Волгодонск)
XI.
Пока так мучился первый «деташемент» легкой русской конницы в степях Средней Азии, посланный гениальной мыслью Наполеона и скорым распоряжением императора Павла, первый консул Франции ничего еще не предпринимал для завоевания Индии. Наполеон сам, оставив свою победоносную армию в Египте, возвратился во Францию, а в это время турки с англичанами разбили французов, и изгнанных из Египта англичане на своих кораблях доставили во Францию.
Победоносное шествие на Индию еще не предпринималось первым консулом и будущим императором Франции, а между тем уже первые пионеры гениального плана, посланные в степи, изгибали, «решались» от стужи и лишений без надежды дойти до цели и, наконец, совсем остановились, решившись идти назад…
Морозная яркозвездная ночь подходила к концу; атаман Платов только забылся тяжелым сном, всю ночь проворочавшись в мучительных думах на кошме, как вдруг караульные казаки заметили запоздалого всадника, закутанного и промерзшего, поспешавшего к месту их остановки.
– По высочайшему повелению, к атаману Платову, с рескриптом! – отвечал посланец на оклики и опросы дозорных казаков и был немедленно препровожден к юлламе походного атамана.

Бюст М.И. Платова (станица Егорлыкская)
– В чем дело? Что такое? С чем приехал? – допытывались дозорные казаки у посланца, но тот, замерзший и окоченевший, мог только отвечать:
– Не знаю! Шестеро нас послано вдогонку из Оренбурга с пакетами за вами…
– Ваше превосходительство! – окликнул денщик Платова, влетая под кошму юлламы и пропуская туда же измученного посланца, – ваше превосходительство, проснитесь, от государя императора бумага пришла! Забывшийся тревожным сном Матвей Иванович в испуге вскочил с кошмы и схватился было за пистолеты и саблю, но денщик высек огнивом из кремня искры, зажег и раздул сухой трут, а от него восковую свечку.– Обогреться, ради Бога, – говорил полузамерзший гонец, и тотчас же ему был поднесен стакан крепкого вина, а под таганчиком был разведен огонек.
С лихорадочной поспешностью был вскрыт большой пакет, привезенный гонцом, и при свете свечи внимательно прочитан.
– Возможно ли это?.. Благодарю тебя, Господи! – воскликнул вне себя от радости Матвей Иванович и упал со слезами на колени перед маленьким литым образом, повешенным в юлламе.
– Павел Петрович умре и император Александр Павлович предписывает нам возвратиться домой!.. Давно пора было приказать это!.. Вина сюда! Жарь баранину на огне! – приказал на радостях Платов денщику, чтобы обогреть и угостить радостного вестника…
Обширный лагерь глубоко спал; все, плотно забившись в юлламейки и закутавшись, спасались от холода.

Бюст М.И. Платова (Саратов)
Рано утром, едва забрезжил свет, треск и грохот барабанов по всему лагерю заставил всех вылезти из теплых юлламеек, а около атаманской палатки уже раскидывали походную церковь, куда и стекались казаки, горя нетерпением узнать, на чем наконец порешил их атаман.
Весть о приезде посланца из Оренбурга уже разнеслась по всему лагерю, но верного никто ничего не знал, и все с любопытством толпились большим кругом около церкви и атаманской юлламы, делая всевозможные догадки.
В юлламе атамана собрались уже все начальники, и казаки ждали их выхода.
Вот откинулась кошма юлламы, вышел иеромонах; полковники, есаулы и сотники последовали за ним, а наконец появился и сам «батько» Платов в парчовом кафгане с золотыми «площами» (пуговицами) и тканым шелковым поясом. Поверх кафтана была надета черкеска тонкого сукна, обшитая позументом, с откидными рукавами и «закавражьями» (обшлагами). В красные сафьянные сапоги татарского покроя были заправлены широкие шаровары. На голове его была соболья шапка с красным бархатным верхом, а на плечи была накинута соболья шуба, опушенная бобром.
Казаки загудели и заволновались, увидя своего атамана в таком парадном наряде.
– Поздравляю, детушки, с походом домой! – громко произнес Матвей Иванович, и весь лагерь загудел криками «ура»; шапки полетели вверх.
Войсковой писарь, выступив на средину, прочел высочайший указ нового императора, и снова громогласное «ура» далеко огласило азиатскую степь.
Торжественно началась Божественная служба; усердно, со слезами радости на глазах молилось казачество и было приведено к присяге новому императору.
Загремели после многолетия пушки и ружья; радостные казаки поздравляли друг друга; пошел пир горой, и в тот же день спешным маршем повернули казаки назад, домой…
Снова раздались песни; больные подбодрились; обратный поход был быстр и радостен…
Так кончился легендарный поход атамана Платова на Индию. Индия осталась в руках англичан, зато и англичане так были рады кончине Павла I, что в Петербурге на другой день после этого события выносили за ворота своих домов целые карзины вина и угощали всех проходящих, поздравляя с воцарением Александра Павловича…».

Памятник М.И. Платову — Москва (авторская копия установлена также в Ростове-на-Дону)
* * *
Лично меня поразила та огромная любовь и уважение, которое показали казаки к своему атаману в Петербурге, да и в походе. Как я уже отметила, стиль подлинника сохранен полностью. Там, где приводится разговор казаков с атаманом и использованы местные диалекты, в сносках даны разъяснения, здесь я их не привожу, но кому станет интересно, могут прийти к нам в Центр по работе с книжными памятниками по адресу: г. Новочеркасск, Буденновская 141 и прочитать всю статью, а заодно познакомиться и с другими публикациями о Платове.
Подготовила к публикации
Ирина Касаркина.
На снимках: памятники М.И. Платову и бюсты атамана – по всей России.
Источник — «Из новой книги: Жизнь и подвиги Графа Матвея Ивановича Платова. Соч. Николая Смирного. 6 Части. М. 1821».