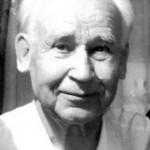Моим детям, внукам и правнукам посвящается
Я, Субботенко Семен, и еще много подростков 16-17 лет с июля 1942 года оказались в оккупированном Новочеркасске. На нас русские полицаи на второй день оккупации сделали облаву, имея очень четкие данные. Гоняли нас ремонтировать старую ростовскую дорогу. За работой следили немецкие жандармы, которые ходили с нагайками. За малейшее «торможение» мы получали нагайкой по спине.
В нашем районе проживало очень много рабочих-железнодорожников. Мы обратились к родителям, которые работали на станции и в депо, чтобы они попросили русского начальника взять нас в железнодорожное депо на погрузку-разгрузку угля вручную. Было получено согласие, и мы, две бригады по 6 подростков, работали в две смены по 12 часов. Нашей бригаде достался смотритель — плюгавый рыжий немец-коротышка с пистолетом в руке.
В ночь с 12 на 13 февраля 1943 года мы закончили разгрузку, вылезли из вагона-пульмана — и ничего не поняли. Возле нас немца не было. Я с другом, Валентином Куприяновым, пошел по площадке в направлении старой нефтебазы. Было много снега, и, не доходя до деревянного сарая, мы увидели людей, взмахами рук обращавших на себя внимание. Это были наши разведчики в белых маскхалатах. Вы бы видели нашу радость! Разведчиков было трое. Они спросили, где немцы, а мы и сами не знали. Мы получили команду пробежать по постам и подключить остальных ребят к проверке, есть ли немцы. Убедившись, что немцев нигде нет, двое разведчиков ушли в сторону станицы Кривянской, а один остался с нами до утра. Утром нас распределили по постам как регулировщиков по два человека на пост. Регулировщиками мы были весь день, пока не прошел весь транспорт. На второй день мы, подростки, пришли в депо, где на трубе котельной была немецкая свастика, подкатили паровой кран 40 т, подняли стрелу и сняли свастику.
Среди подростков и рабочих появился человек в форме чекиста, представился и предложил присутствующим организованно вступить в добровольческий отряд по освобождению города от полицаев, которых немцы с собой не взяли, и других элементов, служивших у оккупантов. Выполняя задание, мы охраняли задержанных в бывшей конторе НЖЧ (Новочеркасская жилищная часть железнодорожников) — там была комната с зарешеченными окнами. Затем приезжала машина и увозила их.
25 февраля 1943 года командир отряда собрал всех бойцов, зачитал список бойцов, которые отправляются в 9-й запасной полк, расположенный в микрорайоне Соцгород. По прибытии в полк у нас проверили документы и на следующий день отправили с маршевой ротой на передовую во 2-ю гвардейскую стрелковую армию, 3-ю гвардейскую стрелковую дивизию, 13-й гвардейский стрелковый полк. Я был определен в роту бронебойщиков (уничтожение вражеских танков и боевой техники).
В июне 1943 года велись сильные бои на нашем Донском фронте. На наш участок было переброшено много тяжелой техники противника. Эта техника превосходила нашу по количеству, и нам было очень трудно удерживать позицию. Находясь под высотой с. Сауровки, я выбрал участок и, когда появились танки фашистов, испытал свой пятизарядный ПТР. В этом бою я подбил 2 танка и бронемашину и был контужен. Когда очнулся, обнаружил, что каска измята, правая рука болтается, поясница ноет, кругом убитые. Я приблизился к напарнику — его тело упало в окоп, а головы у него не было. Добрался до блиндажа артиллеристов, там лейтенант разорвал нижнюю рубашку, перетянул мне поясницу, правую руку подвесил на веревку.
Дальнейший путь — пробираться в тыл. В конце села, внизу, была лощина, густые заросли. Я спустился к зарослям — там оставшиеся в живых бойцы заняли круговую оборону. Когда начало темнеть, бойцы группами стали уходить из зарослей. Немцы на высоте установили какую-то технику и при запуске ракеты простреливали проход, по которому можно было уйти, избежав обстрела. Как только прекращался обстрел, бойцы быстро убегали в укрытие. Я тоже последовал за ними в это укрытие, где пули нас не достигали. Здесь собрались бойцы со всех полков.
И вдруг мы услышали голос начальника штаба нашего полка: «Кто из 13-го полка, подойдите ко мне!». Я с пятью бойцами пошел вглубь, где располагался штаб полка. Когда мы пришли, я увидел странную картину: кругом подбитые танки, разбитые орудия — состояние от увиденного трудно передать. Поступила команда: «Кто может держать оружие, стать в колонну!». Я растерялся — ведь поясница перевязана, рука болтается. Меня ребята знали — дали в левую руку пистолет. «Семен, становись с нами», — сказал один из них. И мы пошли на прорыв в тыл. Там немцы прорвали нашу оборону, и мы все оказались в «мешке». Руководство пошло впереди колонны, нас было около сотни бойцов. На одном из участков мы натолкнулись на охрану фашистов. Крикнули пароль и запустили ракету. Мгновение — и все лежат, ракета погасла, колонны не стало. Все побежали врассыпную вперед, я начал отставать из-за ранения. Но, борясь за жизнь и не желая попасть в плен, я все преодолевал.
При втором сближении с противником горстка бойцов с криком «ура!» обрушилась на противника, который этого не ожидал. Когда я приблизился к немецкой траншее, страх меня оставил, и я перешагнул траншею, на дне которой сидел немец с винтовкой. Я его хорошо видел. На нейтральной полосе (так называется площадь между нашим передним краем и расположением противника) наши бойцы выскочили навстречу, меня кто-то подхватил и унес в нашу сторону. Двое суток горсточка бойцов искала свою дивизию и полк. В госпиталь я не лег. Лечился в медицинском санитарном батальоне.
В июле 1943 года, находясь на Украинском фронте, мы освобождали Украину. На одном из участков — возвышенность, наш полк не смог одолеть противника и понес большие потери. Около 10 часов утра командир полка вызвал командира роты бронебойщиков старшего лейтенанта Беляевского и меня, комсорга роты. Выделив 15 бойцов из всех подразделений полка, командир дал мне задание просочиться с ними в траншею, оставленную противником, и в случае появления противника дать отпор.
Изучив обстановку, я познакомился с соседом по траншее — лейтенантом. Ему была поставлена такая же задача, как и мне. Долго беседовать не пришлось — мы услышали шум танков, которые появились с левого фланга. Их было три. Наши танки шли по нейтральной полосе между нами и высотой. Шли с интервалом. Поравнявшись с высотой, танки развернулись и пошли на высоту. Я, видя, что за танками никого нет, выскочил из траншеи и дал команду: «Бойцы, за мной, за средним танком, на штурм высоты!». Бойцы пошли за мной без крика и выстрела.
Танк раньше нас достиг высоты и был подбит. Мы с бойцами внезапно появились на высоте и вступили в смертельную схватку. Уничтожая противника, мы захватили высоту.
Как только оставшиеся фашисты скрылись, я дал команду собрать все автоматы, наши и немецкие, направить их на противника, засыпать проход, ведущий в тыл противника. Бойцам я сказал, что немцы нас так не оставят, и мы будем драться до последнего патрона. До конца сумерек гвардейцы отбили четыре контратаки, оставили под высотой 50 фашистов. Ночью пришли танкисты из подбитого танка и попросили помощи. Я выделил бойцов, и на рассвете боевая машина и ее экипаж ушли с высоты, а мы продолжали отбивать противника, уничтожив еще около 50 фашистов. Когда стемнело, пришла замена — около роты бойцов. Я сдал позиции, собрал своих героев и ушел в полк. Командира полка на месте не было. Я дал команду разойтись по своим подразделениям. В беседе со мной командир роты Беляевский сказал, что меня представили к высокой награде, однако я так ее и не получил.
В сентябре-октябре 1943 года наша 3-я гвардейская стрелковая дивизия, а также 13-й гвардейский стрелковый полк, где я был комсоргом роты бронебойщиков, с боями продвигаясь и освобождая землю Украины, приблизились к Днепру. Последним населенным пунктом было село Казачьи Лагеря, а за ним две речки — Конка и Крынка и плавни до самого Днепра. При вступлении в Казачьи Лагеря мы встретили препятствие, которое затормозило наше продвижение. В селе находился винный завод. Здание было разрушено, но подвалы уцелели, а во дворе располагались чаны с вином. Когда бойцы их увидели, все застопорилось. Украинские националисты специально это сделали, чтобы затормозить наше продвижение. Бойцы, увидев такое лакомство, принялись его употреблять в больших дозах, даже стали поить им своих лошадей. Начальство полка дало команду спецподразделениям занять оборону за селом, чтобы фашисты не смогли истребить живую силу полка. В спецподразделения входили наша рота бронебойщиков, рота автоматчиков и взвод полковой разведки. Немецкие подразделения спокойно перешли на правый берег Днепра, уничтожив все виды переправы. Находясь в Казачьих Лагерях, наш полк начал подготовку к форсированию Днепра: с наступлением зимы мы приступили к наведению переправы через две реки и плавни с последующим наведением понтонов через Днепр.
Находясь в обороне, мы получили команду выселить жителей из села, чтобы не допустить жертв среди населения. Был организован гарнизон и патрулирование. Комендантом гарнизона был прислан полковник из офицерского резерва. Комендант потребовал выделить ему в помощники адъютанта из сержантского или офицерского состава. Командир полка предложил коменданту пройти с ним по спецподразделению и выбрать помощника. Комендант прошел по всем подразделениям, и, придя в роту бронебойщиков, посмотрев строй, подошел ко мне и спросил, какое у меня образование. Я ему ответил — десять классов. Он командиру полка говорит: «Командируй его мне в помощники». Таким образом, я на время обороны стал адъютантом коменданта гарнизона.
Прослужил я почти до января 1944 года, когда уже была налажена переправа в районе Киева. Нашу 2-ю армию направили на освобождение Крыма. Под Армянском меня ранило в левую руку, был раздроблен указательный палец и задет средний. После освобождения Крыма госпитали были перегружены ранеными, поэтому меня перевели в санитарный батальон для выздоравливающих.
Высшее командование издало приказ, в котором обратилось к крымским татарам с предложением добровольно выйти из укрытий на указанные пункты с последующим искуплением вины — отправиться на передовую. Добровольцев собрали в районе Симферополя. Был организован лагерь, где татары охраняли себя сами. После некоторых проверок меня командировали в спецподразделение СМЕРШ. После проверки всех татар отправили на передовую для искупления вины перед Родиной.
Меня направили во 2-ю Таманскую дивизию, в 6-ой Севастопольский полк, в полковой взвод разведки командиром отделения, но в Крыму долго не пришлось отдыхать. В июле 1944 года нашу 2-ую гвардейскую армию перебросили на 3-й Белорусский фронт под Витебск, а затем на 1-й Прибалтийский фронт. Находясь в разведвзводе, мы совершали вылазки в тыл противника. В один из рейдов мы прошли по лесу около 4 километров и вышли на открытую поляну, где размещалась немецкая техника. Наблюдая из глубины леса, немцы что-то заподозрили и выпустили в нашем направлении минометный залп. Минометный снаряд, касаясь верхушек деревьев, разрывался на мелкие осколки и поражал большую площадь. Мы попали в этот дождь осколков. Были легко ранены два разведчика и тяжело ранен командир взвода — лейтенант. Командира пришлось нести на плащ-палатке четырем бойцам. Когда мы вышли из леса и добрались до медпункта, было уже поздно — наш командир умер. Вместо него назначили меня. Я после принятия командования доложил обстановку на нашем участке дислокации. По карте мы определили место расположения немецкой техники, передали данные начальству и через очень небольшое время, уходя, мы увидели большое зарево в месте, где находилась немецкая техника. Так мы рассчитались за нашего командира.
Наша работа заключалась в том, чтобы наблюдать, подползать и внезапно нападать, не давая противнику прийти в себя, и затем так же быстро скрываться. Для полка мы были и ушами и глазами. Наша задача заключалась в том, чтобы увидеть и предупредить о приближении противника.
Однажды была проведена разведка боем всех разведподразделений дивизии, то есть участвовали 3 взвода полка и 2 взвода дивизии. Долгое время нам не удавалось получить сведений о расположении немецких полков и дивизии, находящихся на нашем направлении. Командование дивизии поставило задачу — достать сведения о неприятеле на нашем участке фронта. Все пять взводов разведки готовились к выполнению задания. Я со своим взводом был в группе прикрытия, т.е. по выполнении задания должен был поддерживать отход огнем и после другой ракеты уйти в нашу траншею.
Мы все приблизились к назначенному пункту в 2-3 часа ночи. Уставшая немецкая оборона частично дремала, когда грохнула наша сигнальная ракета. Немцы в полудреме не успели ничего сообразить, поэтому мы не встретили сопротивления. Мы с разведчиками не имели задания захватить противника, но поскольку представилась такая возможность, мы ее использовали — взяли двух немцев, которых я приказал отправить в наш штаб. На случай, если основная группа не возьмет «языка», они могут дать сведения по своей части. Операция окончилась очень удачно, с нашей стороны потерь не было.
В моем взводе было два отделения пеших лазутчиков и одно отделение конной разведки, бойцы которой осуществляли сопровождение начальства и при удалении противника на большое расстояние производили сближение с ним. Однажды я на коне и четыре конных разведчика ушли на такое сближение с противником. Двигаясь по дороге, мы видели, что вдали дорога имеет поворот. И вот из-за того поворота прямо на нас вылетела бронемашина немцев. Немцы открыли по нам пулеметную очередь. Моя лошадь впереди мгновенно среагировала, поднялась на задние ноги — пулеметная очередь прошила ей грудь. Пока она медленно опускалась на землю, я освободил ноги от стремени и вместе с лошадью упал в кювет, спрятавшись за ее круп. Конники ускакали, чтобы спешиться и прийти мне на помощь. Бронемашина остановилась, но никто из нее не вылезал. Я положил на круп лошади автомат и ждал. Вдруг один немец вылез из танка до пояса, я дал очередь, и фрица не стало. Машина развернулась и уехала, увезя фрица. Вернулись конники, мы сняли с лошади седло и все остальное снаряжение. Возвратившись в полк, я послал отделение пеших лазутчиков для выполнения задания по сближению с противником.
Передвигаясь в ночное время, взвод разведки идет далеко впереди полка на случай внезапного сближения или засады со стороны противника. Находясь на 1-ом Прибалтийском фронте, мы освобождали Литву, Латвию и Восточную Пруссию. Литовцы относились к нам недружелюбно и, по наблюдению, больше симпатизировали немцам. Идя далеко впереди колонны полка, мы увидели, как литовцы на своих подводах удирают в сторону немцев. Мы их задержали. Оказалось, у них на подводах немецкие винтовки, и они бежали к немцам, чтобы сообщить о приближении русских.
Перейдя границу Восточной Пруссии, мы побывали в городах и населенных пунктах, где увидели, как живут немцы — кругом порядок и чистота. В этом смысле нам до них далеко. По мере приближения к самому бастиону, крепости Кенигсберг, мы наблюдали следы того, как они готовились к войне с нашей страной задолго до ее начала: выросшие посадки, пересекающие дороги; колья с наконечниками, где никакой танк и боевая техника не пройдет, а на возвышенностях — доты и дзоты, заросшие и замаскированные так, что не каждый может увидеть. Проходя через лесные участки, мы встречались с людьми, которые были так напуганы, что при встрече с нами бросались кто куда, а некоторые падали на землю и отказывались подниматься. Ведь русских им описывали как убийц, извергов, похожих на пиратов. Говорили, что мы сжигаем стариков и детей — никого не милуем. Когда мы начинали с ними беседовать, утверждая обратное, они поначалу не верили, но потом до них доходило, что мы похожи на людей и не собираемся их убивать. Вот такая была пропаганда Геббельса и других фашистских главарей.
Находясь с двумя отделениями на нейтральной полосе, мы вели наблюдение за врагом. Мы расположились в небольшой траншее и, когда наше командование дало команду утром произвести артиллерийскую обработку переднего края противника, я этого не знал. Когда закончился артиллерийский обстрел, мы первыми выскочили из своего укрытия и обрушились на врага, который не думал, что так близко были русские. Уничтожая противника, мы взяли в плен 18 немцев и, когда бойцы вошли в местечко, где мы их встретили, они были удивлены. Пленных немцев я с одним разведчиком повел в политотдел. Поскольку на месте не было начальника, пришлось передать пленных немцев капитану отдела. В поисках начальства я случайно попал в комнату, где «тыловые крысы» занялись «обработкой» моих пленных. Я возмутился, дал автоматную очередь и приказал вернуть награбленное. Всем им в присутствии капитана сказал, что за трофеями надо идти на передовую и там грабить, сколько влезет, и что доложу об этом командиру дивизии. Конечно, я никому ничего не докладывал, но надеюсь, не один из них задумается о том, как поступать в дальнейшем.
Прошло какое-то время, я встретился с начальником разведки полка и завел с ним разговор о поощрении разведчиков, выполнявших боевые задания. Он указал на гимнастерку, на которой имелся только значок «отличный красноармеец» и больше ничего на гимнастерке не было. Я ему прямо сказал, что награды надо заслужить. На этом наш разговор был окончен, но, видимо, он в душе затаил что-то нехорошее. За время пребывания нашего взвода в этом полку, вплоть до моего отправления на учебу на курсы младших лейтенантов, никто из взвода, включая меня, не был представлен к наградам.
В сентябре-октябре 1944 года, находясь на территории Восточной Пруссии, я с группой разведчиков из 6-7 человек находился в боевых порядках бойцов полка. Наблюдая за противником, я усмотрел темное место, где не было никаких признаков движения. В час ночи я дал команду «идем к немцам в логово, пока они спят». Я сказал командиру роты, что мы пошли и чтобы следили — будет сигнал. Мы прошли нейтральную полосу и приблизились к домикам в логове противника. Все спокойно, тихо. Открываем дверь — в помещении стоит стол, на нем выпивка, закуска и всякие яства, даже фуражки лежали на столе — фрицев ни одного. Мы прикрыли дверь и подошли к другому домику — та же картина. Немцы напились и ушли отдыхать. Я не стал больше рисковать и дал команду: «Будем ждать до утра, а сейчас отдыхать». На рассвете, когда немцы поднялись, засуетились, забегали, мы уже разбились на две группы — одна влево, другая вправо — и с криком «ура» выскочили из укрытия. Уничтожая фашистов, дали сигнал нашей передовой линии, бойцам и командирам. Немцы, находившиеся в первой линии обороны, увидев такой переполох, начали выскакивать из своей траншеи и «драпать». Я встречал наших бойцов и в напутствие кричал им: «Гоните этих гадов, да подальше!». Наш полк преследовал противника несколько километров, не давая ему передышки. В местечке, где мы удачно провели операцию, остались 2 танка, не успевшие завестись, и орудийная батарея. Это были наши трофеи. За эту ночную вылазку в логово противника, так как командование полка посчитало, что это наша работа, мы не получили никакого вознаграждения.
В начале января 1945 года начальник разведки — капитан пригласил меня в траншею передовой линии и указал место, где нужно взять «языка» для получения сведений о находящемся перед нашей позицией противнике. Я изучил указанную местность, углубление между утесами и сказал: «Мы языка не возьмем, только потеряем разведчиков, которым очень трудно найти замену». После раздумья начальник разведки полка мне говорит: «Приказ командира не обсуждается». Мы прекратили беседу и разошлись в разные стороны.
Приказ надо выполнять. Я собрал разведчиков для выполнения задания. Дал им время ознакомиться с местом проведения операции и спланировать отход в свою траншею. Настал день выполнения задания. Мы в маскхалатах вылезли из траншеи и пошли по глубокому снегу цепочкой во вражеский тыл. Пройдя больше половины расстояния, я обернулся, чтобы увидеть свою группу, и вдруг почувствовал какой-то звон в ушах. Снял перчатку, провел по левой щеке — и на ладони увидел кровь. У меня заклинило челюсть, я не мог ничего сказать, только вынул пакет, передал помощнику командира взвода и показал рукой — выполнять задание. Он перевязал меня, и я пошел назад вдоль группы разведчиков в свою траншею, где представители полка, дивизии и армии ждали результата выполнения задания. Опустившись в траншею, я зашел в блиндаж, где мне оказали медицинскую помощь. Я не ушел, пока не закончилась операция моих разведчиков. Итог операции: 2 разведчика убиты и 2 ранены, «языка» не взяли.
После этого меня отправили в госпиталь, откуда я вернулся в феврале 1945 года.
Вызвал меня командир 6-го Севастопольского полка 2-ой Таманской дивизии и сказал, что направляет меня на учебу на 2-месячные курсы подготовки младших лейтенантов. Курсы я окончил 4 мая 1945 года, а 8 мая вечером мы узнали о капитуляции фашистской Германии. Нас всех задержали, мы ждали приказа о присвоении звания младших лейтенантов и распределения по частям, но этого не случилось. В честь парада Дня Победы мы занимались строевой подготовкой, а после парада всех, кто окончил армейские и фронтовые курсы, отправили вглубь страны и распределили по училищам. Я лично попал в Одесское общевойсковое училище имени Ворошилова, располагавшееся в Западно-Казахстанской области, г. Уральск.
По прибытии в училище нас зачислили на 2-й курс, где через год присвоили звание лейтенанта. Параллельно мы проходили врачебно-медицинскую комиссию на пригодность по здоровью. Я имел после войны 3 ранения и контузию, а также нажил язву 12-перстной кишки. По результатам проверки Московской военной медицинской комиссией меня не допустили к дальнейшей учебе и выдали документ с формулировкой: «Отправить в запас по месту жительства с установлением группы инвалидности». Так закончилась моя учеба в училище — с отметкой «курсант 2-го курса Субботенко Семен», без звания младшего лейтенанта, которое я фактически получил в мае 1945 года.
Семен Субботенко.
Новочеркасск,
Январь-август 2012 года.